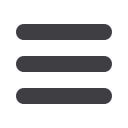
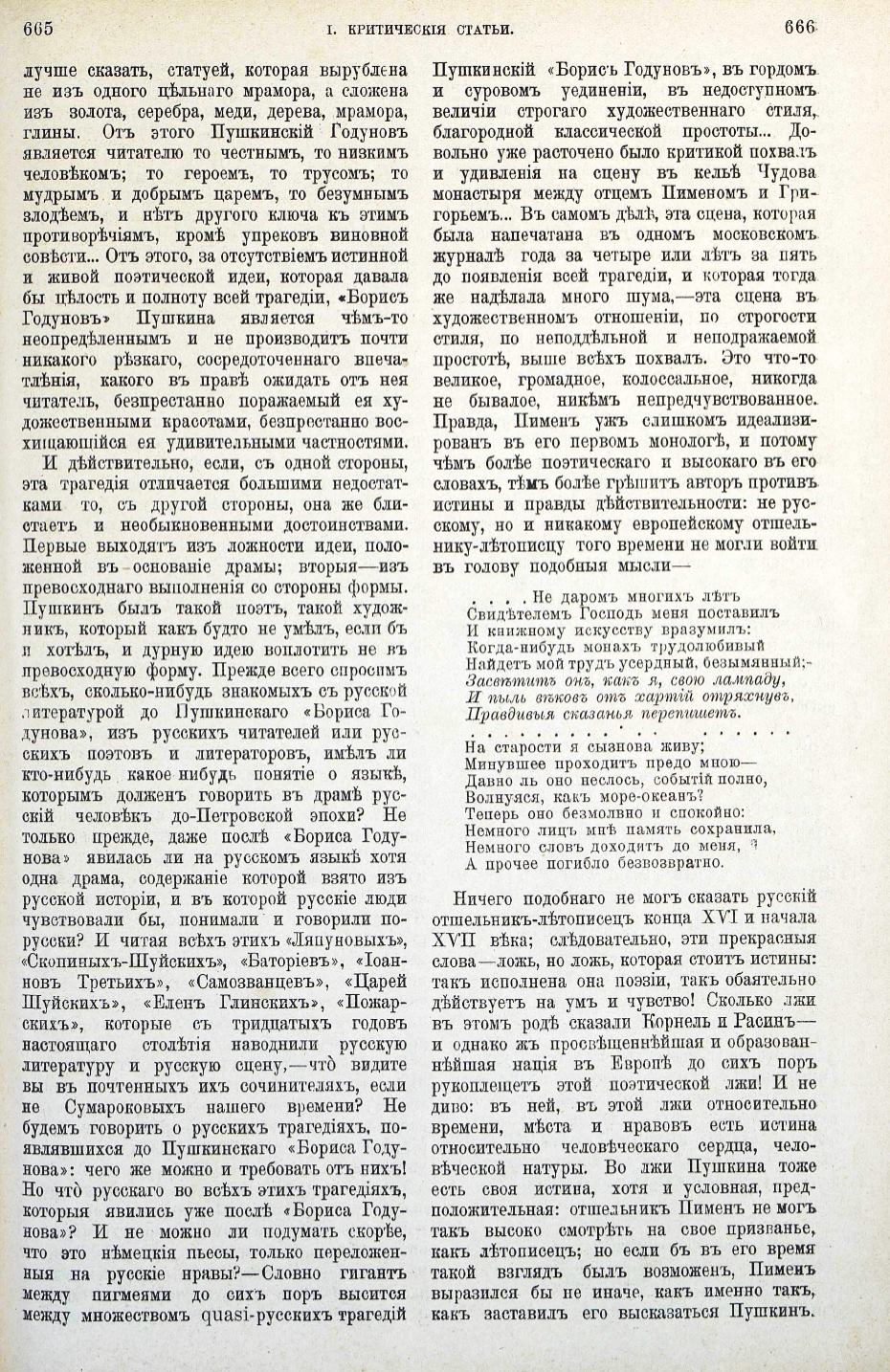
665
I. КРИТИЧЕСКИ! СТАТЬИ.
6 6 6
лучше сказать, статуей, которая вырублена
не изъ одного цельного мрамора, а сложена
изъ золота, серебра, меди, дерева, мрамора,
глины. Отъ этого Пушкинстй Годуновъ
является читателю то честнымъ, то низкимъ
челов'Ькомъ; то героемъ, то трусомъ; то
мудрымъ и добрыми царемъ, то безумными
злод'Ьемъ, и пЪти другого ключа къ этими
противоречшмъ, кроме упрекови виновной
совести... Оти этого, за отсутетвшмъ истинной
и живой поэтической идеи, которая давала
бы целость и полноту всей трагедш, «Борисп
Годуновъ» Пушкина является чйми-то
неопределенными и не производити почти
никакого рЪзкаго, сосредоточеннаго внеча-
тлЬшя, какого ви праве ожидать оти нея
читатель, безпрестанно поражаемый ея ху
дожественными красотами, безпрестанно вос-
хишаюнпйся ея удивительными частностями.
И действительно, если, си одной стороны,
эта трагедш отличается большими недостат
ками то, си другой стороны, она же бли-
стаети и необыкновенными достоинствами.
Первые выходятп изи ложности идеи, поло
женной ви основанш драмы; вторыя—изи
превосходнаго выполненш со стороны формы.
Пушкинн были такой иоэтн, такой худож
ники, который каки будто не умели, если би
и хотели, и дурную идею воплотить не ви
превосходную форму. Прежде всего спросимп
всехъ, сколько-нибудь знакомыхп си русской
литературой до Пушкинскаго «Бориса Го
дунова», изи русскихъ читателей или руе-
екихп поэтовъ и литераторовп, имели ли
кто-нибудь какое нибудь понятш о языке,
которыми долженъ говорить ви драме рус-
сшй человеки до-Петровской эпохи? Не
только прежде, даже после «Бориса Году
нова» явилась ли на русскомп языке хотя
одна драма, содержите которой взято изи
русской история, и ви которой руссше люди
чувствовали бы, понимали и говорили по-
русски? И читая всехп этихп «Ляпуновыхп»,
«Скопиныхъ-Шуйскихъ», «Баторшвъ», «1оан-
новъ Третьихи», «Самозванцеви», «Царей
Шуйских*», «Елени Глинскихи», «Пожар-
скихъ», которые си тридцатыхъ годови
настоящаго столетш наводнили русскую
литературу и русскую сцену,—что видите
вы ви почтенныхи ихи сочинителяхи, если
не Сумароковыхп нашего времени? Не
будеми говорить о русскихъ трагедшхъ, по
являвшихся до Пушкинскаго «Бориса Году
нова»: чего же можно и требовать отъ нихъ!
Но что русскаго во всехъ этихъ трагедшхъ,
который явились уже после «Бориса Году
нова»? И не можно ли подумать скорее,
что это немецкш пьесы, только переложен
ный на руссше нравы?—Словно гигантъ
между пигмеями до сихъ пори высится
между множествомъ quasi-русскихъ трагедШ
Пушкинсшй «Борись Годуновъ», въ гордомъ
и суровомъ уединенш, въ недосгупномъ
величш строгаго художественнаго стиля,,
благородной классической простоты... До
вольно уже расточено было критикой похвали
и удивленш на сцену въ келье Чудова
монастыря между отцемъ Пименомъ и Гри-
горьемъ... Въ самомъ деле, эта сцена, которая
была напечатана въ одномъ московскомъ
журнале года за четыре или лети за пять
до появленш всей трагедш, и которая тогда
же наделала много шума,—эта сцена въ
художеетвенномъ отношенш, по строгости
стиля, по неподдельной и неподражаемой
простоте, выше всехъ похвали. Это что-то
великое, громадное, колоссальное, никогда
не бывалое, никемъ непредчувствованное.
Правда, Пименъ ужи слишкомъ идеалпзи-
рованъ въ его первомъ монологе, и потому
чеиъ более поэтическаго и высокаго въ его
словахъ, тГии более грешитъ авторъ противъ
истины и правды действительности: не рус
скому, но и никакому европейскому отшель
нику-летописцу того времени не могли войти
въ голову подобный мысли—
. . . . Не даромъ многихъ лЪтъ
Свид-Ьтелемъ Господь меня поставили
И книжному искусству вразумили:
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;-
Засвгътитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
И пыль вкковъ отъ хартгй отряхнувъ,
Правдивым сказанья перепишешь.
На старости я сызнова живу;
Минувшее проходить предо мною—
Давно ль оно неслось, событтй полно,
Волнуяся, какъ море-океанъ1?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лицъ мнЪ память сохранила,
Немного словъ доходить до меня,
Щ
А прочее погибло безвозвратно.
Ничего подобнаго не могъ сказать руссшй
отшельникъ-летописецъ конца XVI и начала
XVII века; следовательно, эти прекрасный
слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины:
такъ исполнена она поэзш, такъ обаятельно
действуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи
въ этомъ роде сказали Корнель и Расинъ—
и однако жъ просвещеннейшая и образован
нейшая нацш въ Европе до снхъ поръ
рукоплещетъ этой поэтической лжи! И не
диво: въ ней, въ этой лжи относительно
времени, места и нравовъ есть истина
относительно человеческаго сердца, чело
веческой натуры. Во лжи Пушкина тоже
есть своя истина, хотя и условная, пред
положительная: отшельникъ Пименъ не могъ
такъ высоко смотреть на свое призванье,
какъ летописецъ; но если бъ въ его время
такой взглядъ былъ возможеяъ, Пименъ
выразился бы не иначе, какъ именно такъ,
какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ.



















