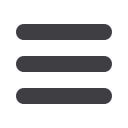
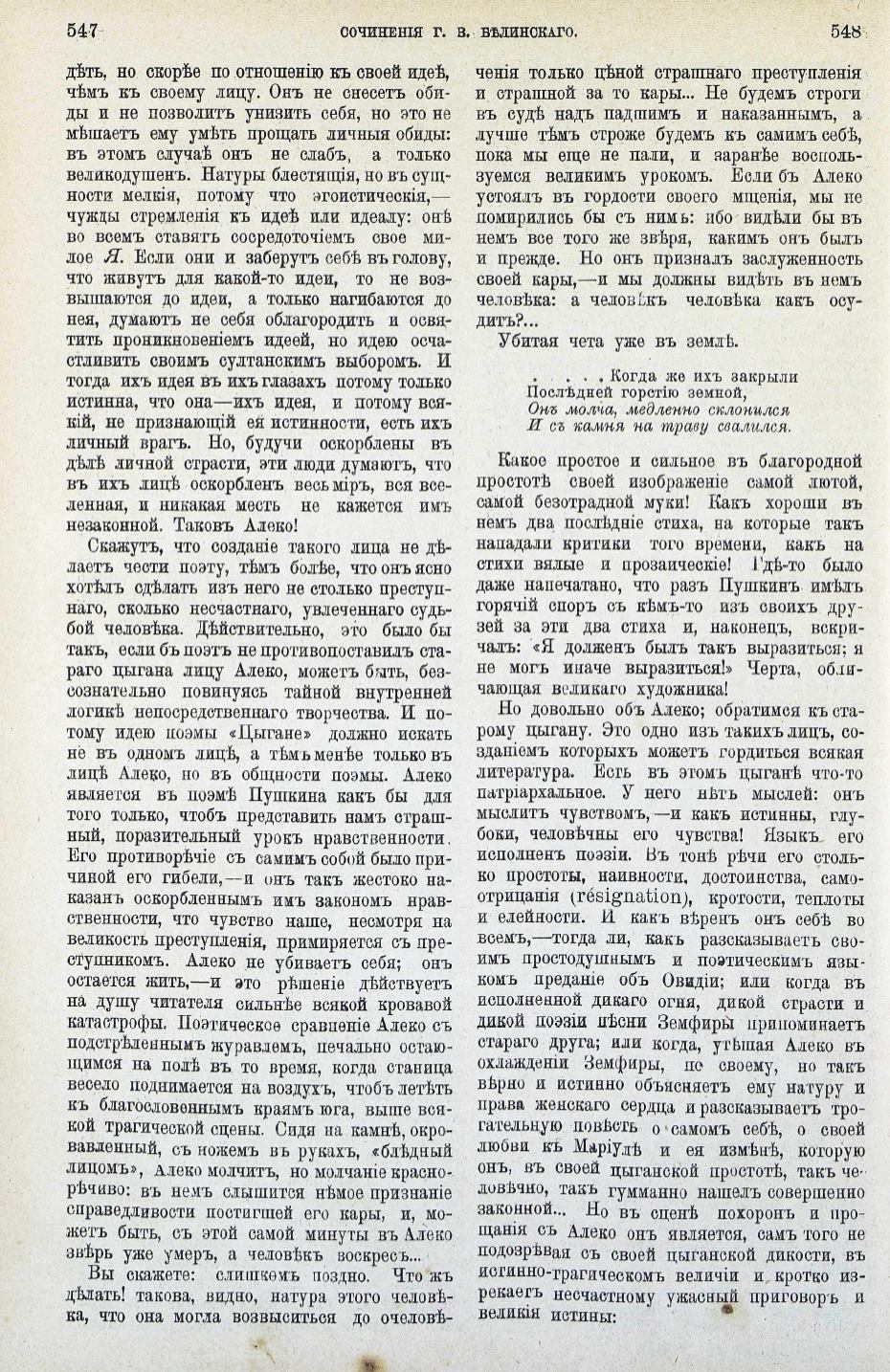
547
С0ЧИНЕН1Я Г. 3. ВЬЛИНСКАГО.
548
дйть, но скорйе по отношенш къ своей идей,
чймъ къ своему лицу. Онъ не снесетъ оби
ды и не позволитъ унизить себя, но это не
мйшаетъ ему умйть прощать личныя обиды:
въ этомъ случай онъ не слабъ, а только
великодушенъ. Натуры блестяпця, но въ сущ
ности мелкш, потому что эгоистическая,—
чужды стремлешя къ идей или идеалу: онй
во всемъ ставить сосредоточшмъ свое ми
лое
Я.
Если они и заберутъ себй въ голову,
что живутъ для какой-то идеи, то не воз
вышаются до идеи, а только нагибаются до
нея, думаютъ не себя облагородить и освя
тить проникновешемъ идеей, но идею осча
стливить своимъ султанскимъ выборомъ. И
тогда ихъ идея въ ихъ глазахъ потому только
истинна, что она— ихъ идея, и потому вся-
кШ, не призяаюпцй ея истинности, есть ихъ
личный врагъ. Но, будучи оскорблены въ
дйлй личной страсти, эти люди думаютъ, что
въ ихъ лицй оскорбленъ весь мгръ, вся все
ленная, и никакая месть не кажется имъ
незаконной. Таковъ Алеко!
Скажутъ, что создаше такого лица не дй-
лаетъ чести поэту, тймъ болйе, что онъ ясно
хотйлъ сдйлать изъ него не столько престун-
наго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судь
бой человйка. Дййствительно, это было бы
такъ, еслибъпоэтъ не противопоставилъ ста-
раго цыгана лицу Алеко, можетъ быть, без-
сознательно повинуясь тайной внутренней
логикй непосредственнаго творчества. И по
тому идею поэмы «Цыгане» должно искать
не въ одномъ лицй, а тймъменйе только въ
лицй Алеко, но въ общности поэмы. Алеко
является въ ноэмй Пушкина какъ бы для
того только, чтобъ представить намъ страш
ный, поразительный урокъ нравственности,
Его противорйчш съ еамимъ собой было при
чиной его гибели,— и онъ такъ жестоко на-
казанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нрав
ственности, что чувство наше, несмотря на
великость преступлешя, примиряется съ пре-
ступникомъ. Алеко не убиваетъ себя; онъ
остается жить,— и это рйшенш дййетвуетъ
на душу читателя сидьнйе всякой кровавой
катастрофы. Поэтическое сравненю Алеко съ
подстрйленнымъ журавлемъ, печально остаю
щимся на полй въ то время, когда станица
весело поднимается на воздухъ, чтобъ летйтъ
къ благословеннымъ краямъ юга, выше вся
кой трагической сцены. Сидя на камнй, окро
вавленный, съ ножемъ въ рукахъ, «блйдный
лицомъ», Алеко молчитъ, но молчаше красно-
рйчиво: въ немъ слышится нймое признаше
справедливости постигшей его кары, и, мо
жетъ быть, съ этой самой минуты въ Алеко
звйрь уже умеръ, а человйкъ воскреси...
Вы скажете: слишкеиъ поздно.
Что жъ
дйлать! такова, видно, натура этого человй
ка, что она могла возвыситься до очеловй-
чешя только цйной страганаго преступлешя
и страпшой за то кары... Не будемъ строги
въ судй надъ падгаимъ и наказаннымъ, а
лучше тймъ строже будемъ къ еамимъ себй,
пока мы еще не пали, и заранйе восполь
зуемся великимъ урокомъ. Если бъ Алеко
устоядъ въ гордости своего мщешя, мы не
помирились бы съ нимь: ибо видйли бы въ
немъ все того же звйря, какимъ онъ былъ
и прежде. Но онъ признадъ заслуженность
своей кары,— и мы должны видйть въ немъ
человйка: а человвкъ человйка какъ осу
дить?...
Убитая чета уже въ землй.
. . , Когда же ихъ закрыли
Последней горетш земной,
Онъ молча, медленно склонился
И съ камня на траву свалился.
Какое простое и сильное въ благородной
нростотй своей изображена самой лютой,
самой безотрадной муки! Какъ хороши въ
немъ два послйдше стиха, на которые такъ
нападали критики того времени, какъ на
стихи вялые и прозаически! Гдй-то было
даже напечатано, что разъ Пушкинъ имйлъ
горячй споръ съ кймъ-то изъ своихъ дру
зей за эти два стиха и, наконецъ, вскри-
чалъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я
не моги иначе выразиться!» Перга, обли
чающая великаго художника!
Но довольно объ Алеко; обратимся къ ста
рому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, со
зданный которыхъ можетъ гордиться всякая
литература. Есть въ этомъ цыганй что-то
патршрхальное. У него нйть мыслей: онъ
мыслить чувствомъ,— и какъ истинны, глу
боки, человйчны его чувства! Языки, его
исполненъ поэзш. Въ тонй рйчи его столь
ко простоты, наивности, достоинства, само-
отрицанш ^résignation), кротости, теплоты
и елейности. И какъ вйренъ онъ себй во
всемъ,— тогда ли, какъ разсказываеть сво
имъ простодушными и поэтическимъ язы-
комъ преданю объ Овидщ; или когда въ
исполненной дикаго огня, дикой страсти и
дикой поэзш ийсни Земфирьт припоминаетъ
стараго друга; или когда, утЬшая Алеко въ
охдажденш Земфиры, по своему, но такъ
вйрно и истинно объясняешь ему натуру и
права женскаго сердца и разсказываеть тро
гательную повйсть о самомъ себй, о своей
любви къ Mapiy.jtt и ея измйнй, которую
онъ, въ своей цыганской простотй, такъ че-
ловйчно, такъ гумманно нашелъ совершенно
законной... По въ сценй похоронъ и про-
тцашя съ Алеко онъ является, еамъ того не
подозревая съ своей цыганской дикости, въ
яегинно-храгическомъ величш и кротко из
рекаешь несчастному ужасный приговори и
великш истины:
*



















